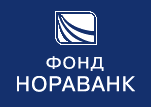16.01.2021
16.01.2021ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД: СОВЕТСКИЙ ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ПРОЕКТ И СОВРЕМЕННАЯ КВАЗИ-ПРОПАГАНДА. Часть третья
Георгий Почепцов“Коллективное и индивидуальное сознание сегодня сближены не только из-за работы медиа, но и за счет особенностей поведения в условиях пандемии. Е. Шульман увидела эту закономерность так: “глобализация, которая интересным образом сочетается с изоляционизмом. Физические барьеры и единое, как никогда, информационное и политическое пространство. Даже несмотря на то, что все опять отделились границами и кое-где введён комендантский час, как бывало в XIX веке, никогда ещё человечество не было столь едино в смысле своего ментального поля, потребления информации. Одна проблема, одна тема является предметом внимания всего коллективного разума. Такого раньше, пожалуй, не было. Все повестки слились в одну повестку. На примере соревнования вакцин мы видим это очень наглядно. …Все смотрят друг на друга и видят друг друга так близко и так подробно, как никогда раньше. Психологически в ходе эволюции мы выработали такой механизм, который распространяет наше сочувствие только на себя и таких как мы. Ранее несчастья того, кто живёт на другом континенте, воспринимались как далёкие истории. А теперь, когда в видеоформате у нас все страдания человечества есть буквально на расстоянии вытянутой руки, это создаёт такую нагрузку, к которой наша психика ещё не привыкла. Но мы учимся с этим справляться” [47].
Близкая проблема возникает везде, например, профессор Дж. Брайт, эксперт по соцмедиа и политическому поведению в Оксфордском институте интернета, высказывается так: “Это очень редкий случай, когда всему обществу надо думать, вакцинироваться или нет. В норме дебаты о вакцине ограничивались бы родителями маленького ребенка, сейчас все начинают об этом думать, все собирают информацию, чтобы принять решение” [48].
Раз возникают точки принятия решений, в них готовы вмешаться извне. Британия имеет для противостояния этому 77 армейскую бригаду, которая специализируется на соцмедиа и скрытых операциях влияния для защиты британских интересов. И она ищет материалы на тему анти-вакцинирования, которые идут от России или других стран или усиливаются ими.
Д. Бронятовский из Университета Джорджа Вашингтона говорит: “Россия использует дебаты по вакцинации, порождая возникающие возможности для игры за две стороны. Вокруг Ковида они реально движутся многими путями. Они используют дебаты по вакцине, как это делают всегда, для продвижения раскола, но все осложнено тем, что они и сами производят вакцину, так что присутствует и элемент вакцинного национализма. У них множество целей, и эта вакцина работает на них” (там же).
В своем исследовании, где он является соавтором, Бронятовский изучил распространение анти-вакцинных месседжей с помощью автоматических ботов. Кстати, название работы звучит несколько зловеще “Вооруженные коммуникации о здоровье”([49], см. также [50]). Здесь было такое распределение месседжей от российских троллей в Твиттере: 43% – за вакцинирование, 38% – против, 19% – нейтральные.
Интересны и характеристики, связанные с языком. Они имели сочетание грамматических ошибок, необычный выбор слов и нестандартных структур. Но было меньше орфографических ошибок и пунктуационных, чем в общем потоке о вакцине. У них таже не было отсылок на другой контент, упоминаний других пользователей и отсутствовали картинки, хотя иногда встречались эмодзи.
Общий вывод таков: “Российские тролли и вводящие в заблуждение боты в Твиттере размещали контент о вакцинации с существенно большей частотой, чем это делают обычные пользователи. Контент из этих источников уделял одинаковое внимание про и анти аргументам по вакцинированию. Это соответствует стратегии продвижению раскола в ряде неоднозначных тем – известная тактика, используемая российскими аккаунтами троллей” (там же).
Раскол такого рода не дает возможности перехода на следующую стадию спокойного обсуждения и выработки единого решения. Он стопорится в яростной схватке. Поэтому еще и в советское время задача создания такого раздора в нужных точках пространства и времени ставилась для разведки очень четко. С другой стороны, понятно, что изменить мнение достаточно тяжело. Зато можно затормозить приход единой точки зрения.
Сюда можно отнести и проблему падения со своих пьедесталов авторитетов, которые в прошлую доинтернетовскую эпоху могли выступать в роли третейского судьи. А. Макаркин привел факторы, которые привели к как бы “убийству” авторитетов в эпоху интернета (и заодно – пандемии):”С одной стороны, это связано с индивидуализацией, возможностью для человека не следовать признанным авторитетам, а самому конструировать приемлемый для себя набор представлений. С другой стороны, с расширением и дальнейшим облегчением коммуникаций – в Интернете есть самый широкий круг мнений, и совсем необязательно следовать за академиком, выступающим на телевидении. Можно провести аналогию с книгопечатанием, демократизировавшим доступ к книге и способствовавшим размыванию авторитета католической церкви – желающие могли недорого купить труды и доктора Лютера, и лиценциата Кальвина, и магистра Цвингли, которые “уравнивались” с многочисленными куда более авторитетными богословами, отстаивавшими католическую ортодоксию. Есть и третья сторона – значительная часть общества испытывает фрустрацию по поводу перемен и сознательно отвергает мейнстримных авторитетов. На “ярмарке экспертов”, которую им предлагает Интернет, они сознательно ищут тех, кто подтверждает их точку зрения. В этом коренное отличие от периода протестантизма – там люди стремились к переменам (ища, впрочем, образцы в прошлом, в раннехристианской аскетичности), здесь перемены вызывают эмоциональный негатив. Таким образом не эксперты ведут людей за собой, а, наоборот, люди ищут обоснование уже давно сформировавшимся стереотипам, связанным с представлением о том, что элиты (политические, медийные, научные) сознательно врут, действуя в ущерб “простым людям”. Здесь травмированный распадом СССР и бурными 90-ми годами россиянин не так далек от ненавидящего глобализацию трамписта. Для трамписта авторитетом является не доктор Фаучи, а медсестра Ольшевски (из простого народа, настроена патриотично, участвовала в иракской войне), которая рассказывала о том, как врачи губят пациентов, отправляя их на ИВЛ” [51].
Некому также сказать, как в мультипликате: “Ребята, давайте жить дружно”… Отсутствие авторитетов имеет то существенное последствие, что на это место может ворваться кто-то поддерживаемый той или другой системой, поскольку свято место пусто не бывает… Кстати, наличие авторитетов можно считать характеристикой стабильного общества. Когда же начинают крушить памятники, о стабильности уже не заикаются.
Еще один фактор, ведущий к агрессивности, упомянул известный специалист по мозгу Дэвид Рок: “Если ты проводишь значительную часть дня в экране, то мозг будет оптимизировать и этот процесс. Например, мы сейчас наблюдаем долгосрочный тренд на снижение эмпатии в обществе, особенно среди молодого поколения. Чем больше мы проводим времени с устройствами, тем хуже мы умеем читать социальные сигналы и понимать живого человека. Безусловно, человеческому мозгу нужны разные типы взаимодействия с миром. Нам нужно время, когда мы максимально сконцентрированы, и в этом нам могут помочь экраны. Нам нужна физическая активность. Нам обязательно нужно социальное общение с другими людьми. И нам нужно свободное время, когда мозг отдыхает” [52].
То есть технологии переводят нас на индивидуальное поведение, в рамках которых нет нужды учитывать существование кого-то другого…
Социальное взаимодействие умирает, его заменяет крик в сторону другого мнения. Это привело к смене телеведущих и типов их программ. И. Петровская в качестве “естествоиспытателя” смотрит не телеэкран, обнаруживая там новые типажи ([53], см. также список таких пропагандистов и подробности их работы [54 – 55]):
– “совершенно новая для ТВ популяция ведущих, которых можно условно назвать «гопниками», «четкими», «реальными пацанами» — развязными, стриженными «под ноль», агрессивными по отношению к тем, кто не вписывается в их представление о «норме», и не отказывающими себе в весьма специфической лексике, в которой преобладают полублатной сленг и многочисленные слова-паразиты: «типа», «короче», «слышь», а также различные выражения, так или иначе связанные с «телесным низом»”;
– «Хорош бакланить», — презрительно бросает он американцу Майклу Бому, что в переводе с одесского жаргона означает «нести чушь, говорить не по делу», и хотя Шейнин значение этого слова своей публике не объясняет, большая ее часть отчего-то понимает, что имеет в виду ведущий, и снова радостно приветствует этот восхитительный полублатной стиль. Тому же несчастному «Майклу для битья» он адресует фразу: «Не надо выскакивать из штанов», а потом и предупреждение: «Только говори осторожно, а то до конца эфира можешь и не дожить, слова выбирай». Это у Шейнина шутки такие, а поскольку Майкл их терпит и с поразительным постоянством, демонстрируя то ли воистину христианское смирение, то ли склонность к мазохизму, день за днем приходит в студию Первого канала, то отчего бы и не поглумиться над «терпилой»: «Майкл, замолчи, если хочешь иметь российское гражданство»”” (там же).
Мы живем в мире профессионалов, в том числе пропаганды. Но все они выросли на прошлом монополизме. А в ситуации выбора, например, между Интернетом и телевизором, они работают не так хорошо. Зритель может отвернуться, что он и делает. Пропаганда может быть либо советской, то есть жесткой, либо ее не будет вообще.
Система пропаганды с крылышками не получилась, ни у Путина, ни у Лукашенко, пришлось делать нечто другое. Но из постсоветского чаще всего вновь получается снова просто советское…
Возврат к списку
Другие материалы автора
- КАК ОСТАНОВИТЬ МИР ИЛИ УСКОРИТЬ ЕГО РАЗВИТИЕ[03.04.2022]
- ВИРТУАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ ПОБЕЖДАЕТ РЕАЛЬНОЕ[15.03.2022]
- КОММУНИКАЦИИ, ВОЙНА И МЫ[25.02.2022]
- НОВЫЕ МОЗГИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ НУЖНЫ ВСЕМ: ОТ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКИХ ДО ВОЕННЫХ[22.02.2022]
- КАК СЛОВА И ПАМЯТНИКИ ПОБЕЖДАЮТ МОЗГИ[16.02.2022]
- О РОЛИ ФАНТАСТИКИ В СНИЖЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ[15.02.2022]
- МИР КАК ВОЙНА, А ВОЙНА КАК МИР[14.02.2022]
- МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО, НО И НЕ ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТИВНО[31.01.2022]
- СЛОВА И ДЕЛА, КОТОРЫЕ ВЕРШАТ МИРОМ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ[21.01.2022]
- КАК В СССР С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАЗРУШАЛИ СТАРУЮ МОДЕЛЬ МИРА И СТРОИЛИ НОВУЮ[21.12.2021]
- ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА В ТРАНСФОРМАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИОСИСТЕМ[14.12.2021]