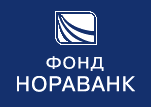07.12.2021
07.12.2021ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В СОВЕТСКОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ: УЛИЦА – ТЕЛЕВИЗОР – СОЦМЕДИА КАК БАЗА
Георгий ПочепцовКоммуникация усиливается или ослабляется той средой, в которой она протекает. Человек, обитая в физической среде, одновременно использует информационную и виртуальную. Усиление позиций человека или религии и идеологии приходит именно оттуда. Коммуникация в этом плане включает человека в иные пространства, кроме физического.
Любая революция базируется на устной речи, обращенной к массам. Так было в семнадцатом, так повторилось в период перестройки. Именно этот вариант оказывается наименее контролируемым властью, поэтому он реализуется протестующими. В нем также нет распространенности контраргументов, поскольку весь информационный поток направлен исключительно против существующего строя. Митинги эпохи перестройки удивляли еще и тем, что такое вообще можно говорить, поскольку все привыкли к контролируемости публичной речи. Люди приходили просто послушать, так как эти аргументы звучали до этого исключительно в зарубежных радиоголосах. Им открывался альтернативный мир, в отличие от советской пропаганды, которая, как и всякая другая и пропаганда, строится на бесконечных повторах. Мы как бы заранее знаем, что услышим. То есть здесь возникает такая типология: знаем наперед или не знаем. Уровень предсказуемости коммуникации в случае пропаганды очень высокий.
Устная риторика основана на том, что захватывает человека полностью, обволакивая его до мозга костей. Эта конструкция коммуникации характерна для первых проповедников. Мир тогда переосмысляется, и кажется, что в него впервые пришла истина. Потом все это исчезнет, но ощущение новизны в первый период воздействия – самое главное…
Игнатий Лойола, разрабатывая методы обращения в христианство, считал, что когда человек в душе почувствовал нечто иное, работа сделана. Такого человека уже можно считать обращенным в новую веру [1 – 2]. Теперь он сам будет откидывать как неправильную ту информацию, которая не соответствует его новой модели мира в голове. То есть цензура сместилась из внешней точки во внутреннюю. Духовные упражнения Лойолы предназначены для всех, а не только для процесса обращения в веру неверующих [3].
С. Эйзенштейн внимательно изучал то, что делал с чужими мозгами И. Лойола, поскольку его как режиссера интересовали методы достижения экстаза. Н. Клейман пишет об этом: “Среди тем, предложенных Эйзенштейну в Голливуде для постановки, было, как свидетельствует он сам в мемуарных заметках, «мученичество отцов-иезуитов». Но уже в Мексике его глубоко впечатляет религиозный экстаз «священных танцоров» — дансантес, наивная и вместе с тем искренняя вера в чудеса паломников и участников крестных ходов, пышность католических обрядов и спиритуалистическая напряженность мексиканско-испанского барокко. Однажды во время обычного похода к букинистам, среди россыпи ничего не значащего хлама он находит книжку с текстами «экзерциций», разработанных и написанных самим Лойолой для своих первых адептов, — текстами, которые он повелел сжечь, но которые были спасены и много столетий спустя изданы… В руках Эйзенштейна книга открылась на одной из тех страниц, где даются вполне конкретные «режиссерские» указания к методам мистического озарения. Заинтересовавшись этими рекомендациями, Сергей Михайлович начинает целенаправленно собирать книги о Лойоле и его упражнениях. Вряд ли можно однозначно решить, чего больше в его интересе — стремления интерпретировать природу экстаза, давно его занимавшего, или желания приобщиться к этому «боговдохновенному состоянию»…” [4].
По сути речь идет о полноценном захвате массового сознания, управлении им с помощью кино. Сегодняшние попытки достижения сходных целей с помощью телевизионных ток-шоу не столь эффективны, поскольку в них все равно на первом месте стоят прикладные, а не художественные цели.
Это как сопоставление плаката и книги. При этом плакат доносит только один смысл, а книга – множество, причем делает это путем объединения их в систему. И такое системное воздействие носит очень сильный характер. Недаром отдельные книги были способны менять целые общества. Вспомним, например, “Хижину дяди Тома”. Советский Союз пытался делать то же самое. Все знали тексты типа “Как закалялась сталь” Н. Островского. Но здесь политика была сильнее художественного компонента. К тому же, текст этот был обязательным для изучения в школе. А это сразу несет элемент отторжения.
П. Бицилли также интересно отметил: “Societas Jesu есть единственное в своем роде общество, приближающееся по типу не к организму, как более или менее все известные нам общества, а к механизму. С механизмом роднить его законченность с самого начала и во всех деталях” [5].
И еще П. Бицилли подсказывает нам: “Сервантес мог сколько угодно смеяться над рыцарскими poманами; но он далек был от насмешек над pыцарством. Он и сам был воином, солдатом. Дон Кихот не сатира, а идеализация рыцарства. „Святое безумство”, толкающее человека из условий обыденной жизни на „приключения” (aventures) и опасности, „безумство” Колумба, Лойолы, Фернандо Кортеса, всей героической и фанатической Испании ХVІ-го века, прославлено и возвеличено в бессмертном романе. Святость неразлучна с деятельностью, т.е. с боpьбой. Это новая концепция. В средние века, эпоху „учености” и расцвета схоластики, как и в период поздней античности, „мудрость”, сообщающая „невозмутимость”, считалась идеальным состоянием. Святость была крайним, высшим пределом „мудрости”. Мистический „опыт”, открывавший „совершенное знание”, был самоцелью. Как ни высоко стоял „чин воинствующих” (Wehrstand), чин „знающих” (color chi sanno, как сказал Данте) или „учащих” (Lehrstand) стоял еще выше”.
Пропаганда, хоть современная, хоть прошлых веков, как раз и является инструментарием обучения. Она строит мир в информационном и виртуальном пространствах настолько прочным, что мы начинаем видеть его и в пространстве физическом.
Почему это было интересно Эйзенштейну? Г. Козинцев напишет: “Эйзенштейн научил кинематографию искусству потрясать. Он создал в кино эпос. Масштабы, утраченные театром века, назад вернулись на экран. Вновь — и уже в ином качестве — возникли пафос, трагический ужас, патетическое сострадание. Тысячные толпы людей — сами, непосредственно, а не через протагонистов — стали героями трагедии. В мире возник новый экран. Кино (недавно «киношка») не только заняло место как равное среди высоких видов творчества, но и на какие-то годы оказалось на кафедре учителя. Эпоха (на какой-то период) смогла выразить себя сильнее всего на экране” [6].
Вспомним при этом, как “Броненосцем Потемкиным” восхищались и Геббельс, и Гитлер, именно по причине его мощнейшего воздействия на зрителя. Их интересовало именно эффективное управление массовым сознанием с помощью кино. Разговор с массой по сути начался с изобретением книгопечатания. В этом ряду после книги и газеты стоят радио и кино.
Коллективное потребление информации принципиально отличается от личностного. Толпа требует инструментария, не похожего на газетное общение. Далеко не все способны даже просто удержать внимание толпы, а не подвигнуть их на какое-то действие. Сталин не владел, как, к примеру, Троцкий, такой силой устного выступления. Видимо, и поэтому тоже он не любил Троцкого, ощущая беспомощность своих собственных выступлений. Естественно, чем больше у него появлялось регалий, тем внимательнее его приходилось слушать.
Кстати, когда перестройка временно вернула менее контролируемые потоки, то тогда вновь на сцену вышли те, кто мог удерживать толпу своими зажигательными речами. Митингом управляют не те, кто может управлять из кабинетов. Трудно себе представить Брежнева или Горбачева таким оратором улицы. Они всегда говорят с комфортными для себя собеседниками, поскольку любое недовольство будет караться.
Сталин развивал коллективное общение в виде газеты – радио – кино. Отсюда стремительный рост аппарата не только чекистов, но и цензуры. Контроль печатного выступления – это более сложный процесс, чем контроль устной речи. У них оказались другие параметры успешности, не столько успех у аудитории, как соответствие канону, что вылилось в цитатные типы текстов. Чем больше цитат, тем правильнее выступление. Крамола могла проскоить, но для этого следовало усыпить бдительные уши и глаза цитатами. В кино работал отбор типажа героя. Политические противники окарикатуривались, правильные типажи получали героические слова и поступки.
Брежнев по сути может служить символом неадекватности оратора времен развитого социализма, поскольку он с трудом мог прочесть написанный его спичрайтерами текст. Революционный оратор сам создавал свой текст, который и произносил. Сегодняшняя модель, как и позднесоветская, разделила эти функции между разными людьми. Возникла вполне уважаемая группа спичрайтеров. Когда А.Бовину предложили послушать выступление генсека, а он был спичрайтером Брежнева, он произнес фразу, за которую сразу был наказан, Он заметил, что зачем ему слушать, если он сам это написал. Его сразу разжаловали на уровень политического обозревателя газеты “Известия”. Такой была одна из историй-интерпретаций своего понижения.
Бовин так вспоминал период своего “спичрайтерства”: “Это была моя работа, я работал, старался работать хорошо. Но а поскольку я и мои коллеги относились к разряду ныне нещадно ругаемых шестидесятников, то конечно, у нас было некое либеральное настроение, мы пытались по мере того, как это было возможно в тексты, которые мы писали и сочиняли вводить всякого рода мотивы. Иногда это удавалось, иногда меньше удавалось, но что-то такое мы пытались сделать” [7].
И еще о Брежневе: “Пока он был здоровый, как-то все было нормально: можно было спорить, ругаться, кричать, махать руками по поводу разных тезисов. Он все внимательно слушал, возражать ему было можно – в общем вполне была нормальная рабочая обстановка. Это если говорить о деле. А если говорить о человеке – вполне тоже был приемлемый человек: не злобный, не жестокий. Война, конечно, на него оказала огромное влияние, с образованием у него было тяжеловато, книжки он читать не любил. Вместо книжек у него другая была метода – он беседовал с людьми. Источники его информации – это люди. Вместо того чтобы читать какую-нибудь толстую книжку, посвященную, например, Польше, он беседовал с людьми и что-то узнавал. Такой генеральский юмор был у него, генсековский, так скажем. Был все-таки. Мы спорим по какому-то поводу, речи, например, он слушает, слушает, а потом говорит: “Ну ладно, вы спорьте, спорьте, а выйду на трибуну, и это станет цитатой“”.
Перед нами как бы фиктивная устная речь, поскольку она многократно обкатывается и обсуждается в тиши кабинетов, к тому же, все время существует на бумаге. Она существует в устной форме лишь краткий период произнесения. А так ее все время читают и обкатывают в печатном варианте. Она сделана спичрайтерами под устную, на самом деле не будучи таковой еще и потому, что политическое выступление такого уровня решает другие задачи. И жить она дальше будет тоже в печатной форме – газете или книге.
Сегодня перед нами возникла вновь “устная” в плане меньшей контролируемости стихия соцмедиа. Говорят все, имея на это право, но слушают все равно немногих. Слушающие “отдают” сети информацию о себе, которую затем разного рода структуры используют в выборах и бизнесе. Последний вариант имел название микротаргетинг, поскольку в отличие от рекламы, работающей на широкую аудиторию, микротаргетинг говорит на более индивидуализированном уровне, поскольку заранее известны “болевые точки” сознания индивидуального потребителя.
Быстрый вброс информации в массовую аудиторию создал благоприятную среду движения не только правдивой, но и неправдивой информации, распространяемой специально. Именно такой не случайный, а сознательный обман комиссия британского парламенты называет фейком. Случайная ошибка или ситуация, когда человек сам верит в то, что говорит, к фейку предлагается не относить. Это как бы естественный обман, а не специальный.
Наше время оказалось тем, что можно обозначить как время фейков. Они отражают как раз стремление к максимальному воздействию на массовое сознание, что оказалось возможным сделать с опорой на технологии. Фейк – это неправда, но такая, которая может захватить миллионы.
Правда, и фейков тоже миллионы. Например, исследовательская группа«Мониторинг актуального фольклора» зафиксировала два миллиона репостов слухов, конспирологических трактовок новостей и под. в связи с ковидом [8]. Естественно, что подобными объемами не может справиться обычный человек, чтобы выйти на опровержение того, что не соответствует действительности. Он “съест” все еще и потому, что это просто интересно.
Самым страшным с точки зрения порождения опровержений оказалось то, что фейки распространяются и шире, и быстрее правдивых сообщений. Массовое сознание оказалось максимально заинтересованным в отклоняющихся от коммуникативной нормы сообщениях. Правда оказалась “сиротой” коммуникаций, в то время как ложь – “королевой”. И именно ложь часто оказывается более востребованной для тиражирования.
Интересно, что более “живучими” оказались фейки, которые повторяли прошлые предубеждения. А. Архипова говорит: “Самые живучие фейки связаны с вакцинацией, интерес к ним сохраняется практически с начала распространения коронавируса в России. Для остальных фейков характерны резкие взлёты и падения: например, интерес к народным средствам и псевдомедицинским советам был высок только прямо перед и во время первой и второй волн коронавируса. Популярность слухов о вреде прививок от коронавируса связана с тем, что они упали на уже хорошо разработанную почву: разнообразные представления о вреде разных прививок существуют очень давно — в контексте коронавируса они просто актуализировались и немного поменяли содержание” [9].
Работа с условной ложью, которая характерна для искусства, была сильной стороной советской системы. Идеология становилась жизнью, например, с помощью художественных фильмов. Правда, как видим, Эйзенштейн находил подсказки, например, в религиозной системе Лойолы, где моделируется достижения экстаза.
Режиссер Рюдигер Зухсланд говорит: “мы не должны забывать, что нацистская идеология была передана немецкому народу в основном через фильмы. С моей точки зрения, эти отношения недостаточно изучены. Мы занимаемся национал-социализмом на моральном и политическом уровне и формулируем четкие суждения, но должны ли мы игнорировать эстетический аспект? Мы склонны отбрасывать эстетические аспекты нацизма, соблазн, способствовавший тому, что народ закрыл глаза на фашистскую идеологию, потому что это нарциссическая травма и оскорбляет наше чувство вкуса. Возможно, поэтому эстетика остается средой, благодаря которой фашизм по-прежнему очень эффективен” [10].
В довоенный период “дружбы” СССР и Германии С. Эйзенштейн тоже был задействован, например, у него была постановка оперы Вагнера “Валькирия” в Большом. Но этот опыт оказался не очень удачным: “Рецензенты довольно высоко оценили работу дирижера Василия Небольсина и некоторых певцов и снисходительно-иронически – режиссуру. Видевший спектакль Святослав Рихтер назвал его “катастрофой”. И вспоминал мрачную остроту пианиста Генриха Нейгауза, сказавшего, что эта неудача и стала причиной войны. Один из сопровождавших Шуленбурга немецких дипломатов назвал версию Эйзенштейна “сенсационной и очень своеобразной, и, во всяком случае, совершенно отличной от тех вагнеровских инсценировок, которые можно было вообразить себе в Германии”. Кто-то другой из сотрудников посольства назвал ее “преднамеренной еврейской выходкой”. Советско-германский культурный ренессанс не состоялся. “Валькирию” дали в Большом всего шесть раз. 27 февраля 1941 года прошел последний спектакль. Эйзенштейн больше никогда не ставил опер” [11].
Наша жизнь стала информационной давно, а не только с приходом интернета, который просто усилил эту тенденцию. Однако информационное пространство даже тоталитарного государства все равно не строится на автоматическом повторе официальной точки зрения. Государство продавливает свою точку зрения, а население пытается сберечь “здравость” своего коллективного ума.
Государство и власть всегда более инерционны. Официоз всегда запаздывает, поскольку находится в более комфортных условиях, чем протестующие. Его все устраивает, чего нельзя сказать о тех, кто выходит на протест. Они всегда должны быть более инновационны. По сути их сила в прошлом, будущее – в руках молодежи.
Статья полностью
Возврат к списку
Другие материалы автора
- КАК ОСТАНОВИТЬ МИР ИЛИ УСКОРИТЬ ЕГО РАЗВИТИЕ[03.04.2022]
- ВИРТУАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ ПОБЕЖДАЕТ РЕАЛЬНОЕ[15.03.2022]
- КОММУНИКАЦИИ, ВОЙНА И МЫ[25.02.2022]
- НОВЫЕ МОЗГИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ НУЖНЫ ВСЕМ: ОТ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКИХ ДО ВОЕННЫХ[22.02.2022]
- КАК СЛОВА И ПАМЯТНИКИ ПОБЕЖДАЮТ МОЗГИ[16.02.2022]
- О РОЛИ ФАНТАСТИКИ В СНИЖЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ[15.02.2022]
- МИР КАК ВОЙНА, А ВОЙНА КАК МИР[14.02.2022]
- МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО, НО И НЕ ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТИВНО[31.01.2022]
- СЛОВА И ДЕЛА, КОТОРЫЕ ВЕРШАТ МИРОМ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ[21.01.2022]
- КАК В СССР С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАЗРУШАЛИ СТАРУЮ МОДЕЛЬ МИРА И СТРОИЛИ НОВУЮ[21.12.2021]
- ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА В ТРАНСФОРМАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИОСИСТЕМ[14.12.2021]