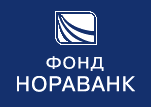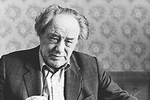 09.05.2022
09.05.2022О НЕОБХОДИМЫХ ЧЕРТАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО (1)
(Философические заметки)Никита Николаевич Моисеев
Каждая эпоха рождает свой тип мировоззрения: новые знания и новый опыт вносят свой вклад в нашу культуру и идет непрерывная трансформация наших взглядов на окружающий мир, на нас самих и на наше место в нем. Но бывают периоды и коренной перестройки самих основ эволюционного процесса развития человека, поворотные моменты и в истории человека, и даже антропогенеза, как и в каждом из природных процессов. Я думаю, что мы как раз и подходим к одному из таких поворотных моментов. Но угадать будущее нам не дано. Тем не менее кое-что из будущего мы не просто просматриваем в туманной дали, а многое представляем уже достаточно отчетливо. Так, мы уверены, что необходимо появится система новых табу и возникнет необходимость новых знаний. Но этого всего будет еще заведомо не достаточно, чтобы выстроить систему нового воспитания и сформулировать новую цивилизационную парадигму. А что еще необходимо сегодня, чтобы не было катастрофы завтра? Каков должен быть новый антропоцентризм? А он должен быть, ибо нас волнует прежде всего судьба человека. Но новый антропоцентризм должен не просто ставить человека в центр мироздания, как в былые времена, а стремиться изменить себя и Природу и прежде всего свое поведение так, чтобы сохранить себя на планете. Антропоцентризм не ради настоящего, а ради будущего! Но как этого достичь? И возможно ли это? Вот некоторым размышлениям на этот счет и посвящена настоящая работа.
Недавно я написал книгу «Современный рационализм» (издание Международного независимого эколого-политологического университета и Российского научного гуманитарного фонда. М., 1995). Это была попытка изложения своего представления об одной из важнейших составляющих современного мировоззрения. Того элемента мировоззрения, который должен быть присущ любой цивилизации, ибо это инструмент, необходимый для их существования в современных условиях. Но рационализм всего лишь элемент мировоззрения, поэтому настоящая работа, в которой я постараюсь изложить видение того, чего, по существу, недостает рационализму, является естественным продолжением моей книги. В основе той работы лежат соображения, как мне представляется, естественные и вполне очевидные для любого человека, который всю жизнь занимался естествознанием, то есть стремился познать те законы, которые управляют Природой, и методы их использования, позволяющие человеку предвидеть возможные последствия своих действий. Смысл этих соображений состоит в том, что сами законы и методы их использования суть концентрированный опыт человека. И следствия этого опыта (научных исследований, и не только их) Вернадский называл эмпирическими обобщениями. В рамках такого подхода мы имеем право говорить о «РЕАЛЬНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ» лишь того, что является логическим следствием эмпирических обобщений. Если угодно, это и есть кредо рационального мышления. Эмпирические обобщения и есть опора практической деятельности человека, способная защитить его от возможных ошибок и неудач и помочь достичь желаемых целей. Они необходимо должны быть основой любого образовательного процесса: человек должен знать, как функционирует биосфера - та сложнейшая система, которая является его единственным домом, домом, которому он обязан своим появлением на свет и частью которого он является.
Но эти знания еще не есть мировоззрение! Это лишь познание дома - шаг, абсолютно необходимый человеку, живущему на грани ХХ - ХХI веков.За последние три столетия цивилизация достигла удивительного могущества и породила новый взлет антропоцентризма, столь характерный для античной культуры. Но теперь примитивный антропоцентризм, основанный на представлении об абсолютном могуществе человека, «равного богам», уже отнюдь не безобиден, как в былые времена. И для того, чтобы использовать это могущество во благо человека, а не во вред ему, людям необходимы самые разнообразные знания и то рациональное, что добыто современной наукой. Оно должно стать одной из опор мировоззрения. А значит, и цивилизаций. Любых - это тоже одна из аксиом «экологической арифметики». Но я назвал свою книгу «Современный рационализм», чтобы подчеркнуть его отличие от рационализма классического и весьма распространенного позитивизма. Человек - порождение Природы, результат длительного ее развития. В реализации этого эволюционного процесса возник удивительнейший феномен - Разум. Это биологический инструмент, способный познавать окружающий мир. Разуму мы обязаны логикой, а следовательно, и возможностью анализа происходящего и предвидения некоторых фрагментов будущего. Но Разум не всесилен. Ему доступно то, что «доступно» уровню совершенства этого биологического инструмента, благодаря тем возможностям, которые возникли в результате длительной эволюции и продолжают открываться в процессе его развития. Поэтому абсолютизация возможностей Разума крайне опасна, как и всякая переоценка своих, достаточно скромных сил. В окружающем мире есть некоторая граница познания, за которой лежит то, что принципиально недоступно тому инструменту, который нам дан законами развития Природы. И как бы он ни развивался, всегда существуют вопросы, на которые человек не имеет и, вероятнее всего, никогда не будет иметь ответа. Так, например, я верю в то, что наука на любой вопрос «КАК?», то есть на вопрос о том, как возникли те или иные следствия из тех или иных посылок, однажды всегда найдет ответы. И эти ответы человек сможет использовать в своей практике. Но всегда остается вопрос «ЗАЧЕМ?» - зачем мы вообще есть, зачем есть Вселенная. И есть ли НАЧАЛО начал. И единственный наиболее разумный ответ, который я знаю, был дан Козьмой Прутковым: «А никогда такого не было, чтобы ничего не было!» У меня нет под руками гениального произведения трех остроумнейших людей прошлого века, и, может быть, я не совсем точно воспроизвожу фразу чиновника пробирной палаты. Но это не столь уж важно. Разве не то же пытался сказать Гегель: «В начале мы находимся в сфере непосредственного». А немного раньше: «...начиная, мы еще ничего не доказали, поскольку нет ничего вытекающего из предшествующего.» (Гегель. Лекции по истории религии. Т. 1). Если, конечно, есть начало (Н.М.)! И отсюда неизбежный вывод Козьмы Пруткова! Вот почему «абсолютная истина» - это мираж, который всегда отдаляется по мере того, как человек обретает новые знания, формирует новые, необходимые для жизни «эмпирические обобщения»! Математик об этом феномене сказал бы, наверное, так: сколько бы конечных множеств ни выбрасывать из бесконечного, оно останется бесконечным. Сколь бы ни развивались наши знания, всегда останется бесконечно много вопросов, на которые у нас не будет ответа. И один из них - вопрос о существовании «абсолютно» или «объективно» истины. Вот почему мировоззрение никогда не сможет быть сведено к чисто научному, рационалистическому миропредсталлению. Я отдаю себе отчет в том, насколько такое утверждение не соответствует тем канонам, которые пытались привить нам в прошлом. И вижу возражения. Но своим оппонентам мне всегда хочется сказать: я ничего не могу доказать, но взгляните внутрь себя, сосредоточьтесь, будьте абсолютно искренны и честны по отношению к самим себе и попробуйте для себя ответить на подобные вопросы. В формировании мировоззрения участвует множество причин. Это и религии, и семейные традиции, встречи с людьми, собственная активная деятельность, и многое, многое другое. Но в процессе обучения необходимо выделить рациональное ядро мировоззрения, то, что должно быть общим для всех людей, на что человек может надежно опереться в своей практической деятельности, научить человека использовать эмпирические обобщения. И рациональное начало нельзя ни с чем смешивать. И в рамках рационализма нельзя говорить о Боге и любом иррациональном, то есть о том, что не является логическим следствием того или иного эмпирического обобщения. Обязанность ученых, учителей раскрыть рациональное содержание наших знаний, дать этот инструмент нашим ученикам, научить в круге доступного пользоваться этим доступным и научиться жить в этом круге. Вот всему подобному и была посвящена моя книга. Это вовсе не означает, что я игнорирую или просто недооцениваю те составляющие миропонимания, которые не сводятся к чисто рациональному знанию. Но их утверждение в человеке имеет совсем другие истоки, качественно отличные от того, что мы называем обучением. Так, например, человек живет в определенном «эмоциональном поле», играющем не меньшую роль в его действиях и его судьбе, чем точные знания. И встречать завтрашний день мы должны не только во всеоружии наших знаний об окружающей Природе, но и при соответствующей настройке этого поля, то есть своего эмоционального (может быть, даже лучше сказать - духовного) восприятия окружающего. Я не умею объяснять иррациональную сущность человека и находить для нее вербальные представления. (Впрочем, и не знаю кого-либо, кто это умеет!) Поэтому лучше всего пояснить свое понимание места этого «поля», а значит, и процесса формирования мировоззрения, нет, лучше сказать, мировосприятия, примерами собственного жизненного опыта. Вот несколько эпизодов собственной жизни, которые повлияли на мое мировоззрение и мое восприятие окружающего. И, вероятнее всего, сыграли немаловажную роль в том, как сложился мой жизненный путь, выбор моих занятий, моя судьба. Ведь мой личный опыт - это тоже эмпирическое начало. И оно может привести к ряду практических выводов, выводов и суждений, к которым я пришел и которые последуют в конце изложения.
Я человек не религиозный, хотя и никогда не был атеистом. Я с уважением воспринимал любые религиозные мифы, хотя и удивлялся их разнообразию. Как теперь я понимаю, мое неприятие антирелигиозности - это следствие того же суждения, которое лежит в основе рационализма: я не знаю такого эмпирического обобщения, которое мне позволяло бы утверждать отсутствие Бога или Высшего Разума. 0 том, что я не могу утверждать обратное, я, по существу, уже сказал в предыдущем разделе. Но были и факты личной жизни, которые непосредственно повлияли на мое мировосприятие, минуя какие-либо логические этапы, - факты, которые позволяют делать определенные выводы. Как я узнал, получая однажды метрику, я был крещен в церкви Николы в Хамовниках в августе 1917 года. Моим воспитанием, в том числе и религиозным, занималась моя бабушка. Несмотря на то что она была лютеранкой, бабушка каждое воскресенье ходила к обедне в православную церковь и выстаивала длинные службы. В воспитательных целях она меня брала с собой. Но стояние в церкви было для меня мучительным времяпрепровождением. Служба мне казалась утомительно повторяющимся представлением и игрой, цель которой я не понимал... Я спрашивал бабушку, почему они каждый раз повторяют одно и то же, неужели им ато не надоело и они не могут придумать чего-либо нового. И даже предлагал варианты этой красивой, но нудной игры в храме. Наверное, отсюда и началось мое неприятие церкви. Как позднее я понял, - любой! Но была и еще одна причина моего детского отвращения ко всему, что связано с религией. У нас дома была прекрасно изданная «Библия для детей» с изумительными гравюрами Доре. Я часто листал эту книгу и всматривался в иллюстрации. Всюду был Бог или его пророки. Бог был величественен и грозен. Он вывел из Египта избранный им народ, вел его по пустыне, он благословлял жертвы и грозил всем врагам своего избранного народа. Одним словом, Бог был страшен! Ночью мне снились эти гравюры, и я с плачем просыпался. Бабушка меня спрашивала: «Что с тобой?» Я говорил бабушке: мне страшно - ведь я не еврей и поэтому Бог евреев меня хочет убить. Бабушка меня утешала весьма своеобразно. Она мне говорила: ты не бойся, у нас есть свой Бог, он сильнее и Он тебя защитит. Это меня успокаивало, и я засыпал. Потом эта книга куда-то делась, ее, наверное, спрятали, брать меня в церковь перестали, потом началась школа - советская школа, и религия надолго ушла из моей жизни. И все же один раз я молился, причем, как сейчас понимаю, вполне искренне. Во время войны я был инженером по вооружению бомбардировочного авиационного полка. Эпизод, о котором я буду рассказывать, произошел где-то между Великими Луками и Новосокольниками. Эта местность только что была освобождена нашими войсками. Я шел с летного поля в деревню, где мы тогда размещались. Решив сократить дорогу, я вместе с одним спутником пошел через заснеженный луг. Неожиданно взорвалась мина, и осколок прошил сапог и поранил ногу. Оказалось, что мы пошли по участку, который не был еще проверен саперами, и недалеко от нас стоял колышек с дощечкой, на которой была надпись «мины». Мы его просто не заметили. Кругом были мины: шаг вперед или назад, направо или налево грозил смертью. Я опустился на корточки и прежде чем начать разгребать снег, как-то глубоко ушел в себя, перекрестился и произнес какие-то слова молитвы. Я не помню, что я попросил у Бога, но я действительно молился. И вот случилось так, что я остался жив. Разгребая осторожно снег, я нашел мину и увидел, что это была как раз та пехотная мина образца 1905 или какого другого года, но именно та, на образцах которой нас в академии им. Жуковского обучали элементам минного дела. Дальше все уже было просто: я знал, как обращаться с этими минами, и вскоре мы были на опушке спасительного леса. А еще через полчаса я был в санчасти, мне сделали противостолбнячную прививку, перевязали ногу, и я, хромая, пошел в избу к своим оружейникам. Позднее саперы мне сказали, что других пехотных мин у них не было отродясь. Тогда я понял и смысл, и значение своей молитвы. Она помогла мне собраться, не сделать случайной оплошности. Но именно это и было судьбоносно. Я невольно вспомнил свою бабушку. За три года, проведенные на фронте, я не раз видел, как молитва выручала людей в критических ситуациях: она создавала тот эмоциональный настрой, который давал уверенность в себе и помогал мобилизовать свою волю.
Возврат к списку