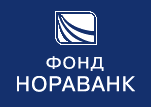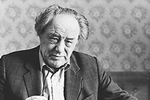 10.05.2022
10.05.2022О НЕОБХОДИМЫХ ЧЕРТАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО (2)
(Философические заметки)Никита Николаевич Моисеев
Я не люблю священнослужителей. Любой конфессии! Мне, наверное, очень не повезло, но я на своем веку почти не встречал священника, с которым я мог бы найти общий язык, который был бы способен мне рассказать, почему он выбрал ту дорогу, по которой он пошел, то дело, которому он посвятил свою жизнь. Но была еще одна причина, которая мне не позволяла войти в контакт со священнослужителями. Я много лет преподавал в высших учебных заведениях, и по долгу службы мне постоянно приходилось бывать в контакте с преподавателями марксизма-ленинизма. Меня поражало их согласие безропотно и бездумно следовать одному-единственному интеллектуальному каналу. Его берега были столь жестко ограничены, что мне было даже трудно называть этот канал интеллектуальным: все мыслимые вопросы были уже решены заранее. Даже малое отступление от трафарета считалось наказуемой ересью. Моя неспособность следовать во всем и всегда принятому трафарету однажды могла иметь для меня весьма печальные последствия. В 1951 или 1952 году мне было поручено вести семинар по методологическим вопросам физики. В моем распоряжении оказалось довольно много методологического плана оригинальных статей Бора, Гейзенберга, Шредингера и других столпов современной физики. И я, не мудрствуя лукаво, предложил их прореферировать и обсудить. Мои коллеги по университету с удовольствием приняли это предложение. Мы начали работать - всем было интересно. Но неожиданно меня вызвали в отдел науки Ростовского обкома партии - я тогда был доцентом Ростовского университета - и сказали примерно следующее: вы что, в своем уме, чтобы рекламировать буржуазную ересь, кто вам разрешил заниматься отсебятиной! Вот есть статья об ошибках копенгагенской школы, ее и надо изучать, все, что вам необходимо, там есть. Я был отстранен от руководства методологическим семинаром, и на этом дело закончилось. Хотя, как мне сказали знаощие люди, могло бы быть и гораздо хуже. Вот эта борьба с отсебятиной, эта канонизация одной, и вполне определенной, доктрины в равной степени присуща и преподавателям марксизма, и большинству священнослужителей, с которыми меня сводила судьба. Меня поражало нежелание говорить о самом главном - обсуждать суть божественного. Позднее я узнал, что это просто запрещено православием. Но именно этот вопрос меня и интересовал больше всего. 0 нем я много думал. Совсем недавно на одном семинаре я вспомнил слова Гегеля «Бог - всеобщее абстрактное наименование, не получившее своего истинного содержания». Какое это вызвало негодование у двух теологов, присутствовавших на этом семинаре, один из которых был мусульманином, а другой православным. В 70-х годах я проводил некоторые расчеты по поручению комиссии ЮНЕСКО по Великим озерам и часто бывал в Торонто. В один из моих приездов я был приглашен в Оттаву нашим послом (тогда им был А.Н. Яковлев). После моей встречи с работниками посольства, которые интересовались той работой, в которой я принимал участие, я вернулся в гостиницу и позвонил канадцу русского происхождения, некоему Петрову, с которым я познакомился в Москве и который на всякий случай оставил мне свой телефон в Оттаве. Он немедленно примчался в гостиницу с бутылкой вина, и у нас состоялся очень интересный разговор - он мне рассказал много такого о жизни русских в Канаде, о чем я и не догадывался. Петров был очень верующим человеком. Более того, он был чем-то вроде старосты (или членом общественного совета) православной общины Канады, и она строила в Оттаве православный собор. Все то, что он мне рассказывал, было ново и интересно. По ходу разговора зашла речь о союзе церквей, и мой гость высказал категорическое неприятие этой идеи. Мне было удивительно услышать из уст физика по образованию, что сесть за один стол с еретиком грешно и безнравственно. Конечно, это было мнение не его, а той церкви, к которой он принадлежал. Его слова были еще одним подтверждением того, о чем я уже говорил. Но вопрос был шире, и он не касался только православия. После наших работ по «ядерной зиме» я однажды был приглашен в папскую академию, и мне довелось в Ватикане разговаривать с одним из кардиналов. Он был дипломатичнее, более образован, чем мой канадский знакомец или те русские священники, с которыми мне приходилось общаться до этого. Но в нем была та же приверженность канону, на все готовый ответ и наличие запретных зон для обсуждения: ни дать ни взять -преподаватель истории КПСС. Только пообразованнее! Пожалуй, лишь один раз у меня получился разговор со священнослужителем - та естественная форма дискуссии, которая возникает между интеллектуалами, когда разговор им обоим бывает интересен. Это был нынешний Далай-лама, и мой разговор состоялся на его приеме в издательском отделе Московской Патриархии. Он принимал мои аргументы, выдвигал свои, задавал вопросы, возражал, соглашался. Задумывался над сказанным. Никаких запретных тем. Разговор закончился немного комично. Он мне сказал: «Ну, я вижу, что вы никакой не эволюционист, вы настоящий буддист». Я принял это как шутку.
Как уже, вероятно, понял читатель, с религией, как я считаю, мне просто не повезло: на моем пути не встретилось священника, который смог бы мне показать то, что может дать духовному миру человека настоящая религиозность. Не обрядовая сторона той или иной конфессии, не та совокупность постулатов поведения, которой должен придерживаться любой человек, принадлежащий той или иной церкви, а та мудрость, которая привлекала к религии умнейших людей во все времена, и та красота миропредставления, которая, как мне кажется, присуща по-настоящему верующему человеку. Впрочем, может быть, здесь дело и не в невезенье: люди просто очень разные и не всем дано увидеть красоту в религиозном миропонимании. Мне всегда хотелось стать верующим. Мне хотелось познать радость того глубоко интимного общения с Богом, которое, вероятно, присуще по-настоящему верующим людям Но, увы, у меня это никогда не получалось. Но мне повезло в другом: мне удалось увидеть и познать много прекрасного, что делало мою жизнь содержательной и определило многие особенности моего миропредставления, а следовательно, и поведения, и выбора жизненного пути в хаосе случайного и непредсказуемого.
Я расскажу о двух эпизодах, которые я выбрал потому, что они сыграли особую роль в моей жизни. Однажды я со своей младшей дочерью пошел на концерт. В этот вечер в консерватории давали Рихарда Штрауса, гениального композитора, произведения которого, к сожалению, редко звучат в наших концертных залах. Оркестр исполнял его «Ночь просветления». Я люблю симфоническую музыку, хотя на концерты хожу очень редко и поэтому выбираю те вещи, которые более или менее знаю. Но в тот вечер я впервые слушал Рихарда Штрауса, и он оказался особенным. Передо мной как будто бы открылся новый мир. Я несколько дней был под впечатлением музыки Рихарда Штрауса. Она для меня действительно была «Ночью просветления»! На той же неделе мне пришлось быть на каком-то академическом совещании, где шла какая-то подковерная, как теперь говорят, борьба. Когда дело дошло до голосования, я подумал, а какое это все имеет значение, если есть люди, способные написать «Ночь просветления», если вообще бывают ночи просветления! А они же бывают: я только что ее пережил. Потом еще несколько раз я переживал нечто подобное, все больше и больше утверждавшее мой образ восприятия окружающего. А вот второй эпизод, сыгравший не меньшую роль в моем миропредставлении. В молодости я занимался «большим альпинизмом». Не очень большим, но все-таки настоящим альпинизмом. Я бывал в большинстве горных районов Советского Союза, где занимаются альпинизмом. Бывал и в Альпах, и в Скалистых горах. Но ничего, подобного Алтаю, сравнимого с ним, я не знаю. Снеговая линия на Алтае проходит значительно ниже, чем на Кавказе, а тем более в Средней Азии. Но северная природа такова, что на склонах деревья, преимущественно лиственница, растут чуть ли не до трехкилометровой высоты, гораздо выше языков ледника и снеговой линии. В 1952 году мне довелось быть первым начальником спасательной службы в первом алтайском альпинистском лагере в ущелье Ак-Тру, недалеко от монгольской границы. Но знакомство с Алтаем у меня состоялось значительно раньше, так же как и родилась любовь к этому горному краю. Перед самой войной я участвовал в небольшой экспедиции, которая предполагала подняться на Белуху с севера, с ледника Радзевича, траверсом хребта Делоне. Наш небольшой караван - две лошади, погонщик и человек семь-восемь альпинистов - шел по узкой тропе высоко над речкой, вытекающей из-под языка ледника. И неожиданно за одним из поворотов перед нами открылась Белуха. Глубоко внизу лежала долина, а надо всем навис почти пятикилометровый снежный исполин, этакий могучий и грозный властитель. Но нет - на сжатом деле не Властитель, а Охранитель: на другой стороне ущелья, обращенной к югу, высоко над ледником неширокой полосой поднималась роща из лиственниц. В июне деревья были ярко фисташковыми, и, обращенные к Солнцу, они олицетворяли ЖИЗНЬ. И над этой рощей снежный исполин, защищающий ее от северных ветров. И дававший тем самым возможность этой роще быть радостным фисташковым островком жизни. Мы все остановились, завороженные открывшейся картиной. Я думаю, что для многих из нас эта роща была тем символом жизни, тем откровением Природы, встреча с которыми и восприятие которых не менее важно для человека, чем знание законов Ньютона. И правил логического мышления. Лет через 35 я начал заниматься проблемами биосферы. Когда я начал изучать ее свойства как целостной системы с помощью компьютерной имитации ее функционирования и читать труды Вернадского, то у меня родилось свое представление о ноосфере. Я однажды представил себе человечество той рощей лиственниц у подножия Белухи, которая растет и тянется вверх под защитой великана, имя которому Природа. И она, эта маленькая роща, удерживает склоны снежной громады, удерживает оползни, а значит, удерживает его от разрушения. Вот тогда я впервые написал о том, что эпохой ноосферы следует называть тот этап антропогенеза, когда человечество окажется способным реализовать режим коэволюции человека и биосферы. Когда развитие общества и деятельность человека будут содействовать развитию Природы, обеспечивать ее стаМир человека - это неразрывная связь рационального и иррационального. Это и интуиция, и инстинкты, непредсказуемость или нелогичность поведения и т.д. и т.п. И его духовный мир, его иррациональная сущность, по-видимому, принципиально необъяснима. Мы можем лишь говорить о том, что влияет на его формирование. И она, иррациональность человека, крайне индивидуальна, несмотря на большое количество общих черт у людей. Я это и постарался показать на некоторых примерах, опять же из своей собственной жизни. Другого опыта у меня просто нет. Но мир иррационального, его духовный мир не в меньшей степени нужен человеку, чем мир рационального, и в не меньшей степени влияет на поступки человека, чем его суждения, основанные на принципах рационализма. И, что, может быть, самое главное, - наибольшую радость, ощущение полноты и прелести жизни дает человеку как раз иррациональная составляющая его миропредставления, его жизни. И эта важнейшая компонента бытия человека не может не быть в центре внимания образовательной и воспитательной деятельности общества. И мы должны учиться на нее влиять так, чтобы уберечь человечество от деградации. Учитель не может передать своим ученикам свой духовный мир. Люди очень разные, и то, что для одного может составить смысл жизни, то, во имя чего человеку хочется жить, для другого не стоит ничего! Но учитель может показать детям, и не только детям, но всем тем, кого он так или иначе учит, то, о чем они даже и не догадывались. Открыть перед ними страницу, о существовании которой они и не подозревали. Подобно тому, как однажды услышанная «Ночь просветления» открыла мне мир Рихарда Штрауса. И не в меньшей степени определила переориентацию моей практической деятельности, чем разговоры с одним из умнейших людей, которого мне посчастливилось встретить, с Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Многие часто не догадываются, каким богатством они потенциально владеют и сколько истинного счастья проходит мимо них. Показать им эти возможности - одна из важнейших задач воспитания и образования. И путь в этот мир иррационального лежит через познание искусства. И Природы. И, как я думаю, главным образом, через музыку и поэзию, способные в символьной форме, минуя логику и рассудочность, непосредственно затронуть самые глубинные чувства человека. Искусство ничего не должно отображать - это прежде всего бессловесный разговор автора с аудиторией, это невербализированное обращение к той иррациональной сущности человека, которая и есть его собственное Я! Искусство должно быть только ради искусства. Оно нужно, необходимо человеку. И очень важно, что оно способно затронуть те струны, которые перестают звучать в повседневной обыденности, глохнут под бременем жизненной необходимости либо традиционных стремлений. И тогда к человеку приходит ДОБРО, то глубинное, что лежит за пределами познания, но что в не меньшей степени влияет на познаваемое и познанное, чем то рациональное, без которого человек не сможет жить на Земле. И вместе с ним у человека возникает то ощущение полноты и прелести жизни, которое, может быть, и составляет ее истинное содержание. И тогда возникает синтез, о котором мечтали представители искусства нашего серебряного века. Сейчас такой синтез становится жизненной необходимостью И это не пустая фраза. Его необходимость была гениально угадана нашей отечественной культурой еще сто лет тому назад. Попробую подробнее пояснить подобное утверждение.
Возврат к списку